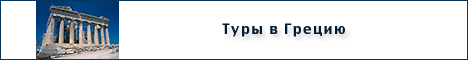8 –Э–Њ—П–±—А—М 2007
–•–Р–†–Ш–Щ–° –Ґ–£–Ь–Р–Э–°
Posted by admin under: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є .
–Ф–≤–µ –њ–Њ—В–µ—Б—В–∞—А–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є
–Я—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–≤–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤–µ—А–љ–µ–µ –Є—Е –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є. –°–Є–љ—В–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –µ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–ї—П —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–≤–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –≤ –Њ–±—Й–Є—Е —З–µ—А—В–∞—Е –њ—Г—В–Є –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П.
–° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥—А–µ–Ї–∞–Љ –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –У–Њ–Љ–µ—А –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є—В —Б–µ–±–µ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–Є—П (Il. II, 204 — 206). –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ–ї–Є–Ї—В—Л –Љ–Є–Ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±–∞—Б–Є–ї–µ–є –±—Л–ї –ї–Є—И—М —Б–ї–∞–±–Њ–є —В–µ–љ—М—О –Љ–Є–Ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Л—З–∞–≥–∞–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –∞ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б –Њ–њ–Є—А–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В, –ї–Є—З–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є — –±–∞—Б–Є–ї–µ–є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤–µ—А—И–Є–ї —Б—Г–і –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Л–µ —А–Є—В—Г–∞–ї—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –µ–µ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–∞—Ж–Є—П, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –µ–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –°—Г—В—М —Н—В–Њ–є –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–∞—Ж–Є–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–∞ –≤ —В–µ—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е «–Ш–ї–Є–∞–і—Л», –≥–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ —Ж–∞—А–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ—В, –Ї–Њ–Љ—Г «–Ч–µ–≤—Б –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤—Л–є —Б–Ї–Є–њ—В—А –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л» (Il. II, 206.). –Т —Н—В–Њ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –і–≤–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Б–∞–Љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ –Ч–µ–≤—Б–∞ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –і–∞—А–Њ–Љ; –Є –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л (themistas), –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Ж–∞—А—М —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –Њ—В –Ч–µ–≤—Б–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Т–µ—А—И–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є, —В.–µ. –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ю–ї–Є–Љ–њ–µ, –∞ –µ–µ –Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Ж–∞—А—П.
–Э–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –і–∞–µ—В –Ч–µ–≤—Б –±–∞—Б–Є–ї–µ—О, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—З–µ—В –Є —Б–ї–∞–≤—Г (Il. XVII, 251). –≠—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±—Г—О –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М, –і–∞—А—Г–µ–Љ—Г—О –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г (kharis — «–Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞», «–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М», «–Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М», «–і–∞—А»). –≠—В–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞, —Г–Љ, —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М, —Б–Є–ї–∞ –Є —В.–і. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –С–∞—Б–Є–ї–µ–є –ґ–µ —Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞ — —Н—В–Њ –ї—Г—З—И–Є–є –Є–Ј –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –Є–Ј —З–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–ї–∞—Б—В—М –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–∞—Б–Є–ї–µ–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О.
–Э–∞ —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М –±–∞—Б–Є–ї–µ—П —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ –±–Њ–≥–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Я–Њ—Н—В –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Ж–∞—А–µ–є «–±–Њ–≥–Њ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є» (diogeneis), «–±–Њ–≥–Њ–Љ –≤—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є» (diotrepheis) –Є «–±–Њ–≥–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є» (theoeides). –°—В—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤ —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –У–Њ–Љ–µ—А–∞ —Н—В–Є —Н–њ–Є—В–µ—В—Л —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞–Љ–Є, —З–µ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–і–µ–є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є—Е –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Њ—З–µ–љ—М –і—А–µ–≤–љ–µ–є –≤–µ—А–Њ–є –≤ –Њ—Б–Њ–±—Г—О —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Ж–∞—А—П. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Ј «–Ю–і–Є—Б—Б–µ–Є», –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П (Od. XIX, 109 — 114). –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–µ –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Њ—Б–Њ–±—Г—О –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г —Ж–∞—А—П — –ґ—А–µ—Ж–∞, –і–∞—О—Й–µ–є –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–љ–Є–µ –ї—О–і–µ–є –Є –≤—Б–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞ —Г–ґ–µ –Њ—В—З–µ–ї–Є–≤–Њ –Ј–≤—Г—З–∞—В –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л: –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ –љ–∞ –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г, –∞ –љ–∞ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ — —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Ж–∞—А—П. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —Г–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В—Е–Њ–і –Њ—В –і—А–µ–≤–љ–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–∞ –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –Є—А—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–Є –≤ —Б—Д–µ—А—Г —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –±–∞—Б–Є–ї–µ–µ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –і–≤–µ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –≤ –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є–і–µ–Є. –Т–Њ — –њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–Њ —Г–±–µ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ «–Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М», —В.–µ. –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–Љ–Є (–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –µ—Б—В—М –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ—Л). –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Н—В–Њ –Њ–±—Й–µ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –і–∞–µ—В—Б—П –±–∞—Б–Є–ї–µ—О —Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–∞ (—Б–Љ.: Il. IX, 575—Б–ї–ї.; XX, 179—Б–ї–ї.; XII, 310-321; VIII, 161—Б–ї–ї.; Od. XVI, 375—Б–ї., 424—Б–ї.). –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–Њ–і —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—Л—Б—И–Є–Љ –∞—А–±–Є—В—А–Њ–Љ –Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞.
–Т—Ж–µ–ї–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Є –µ—О –ґ–µ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П. –Ю–љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –±–Њ–≥–Њ–Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Ж–∞—А—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–≤—П—В —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–ї—Г–≥ –Є –Њ—В –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В, —В.–µ. –Є–і–µ—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ф–∞–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ—З—В–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –≤–Є–і–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї –У–Њ–Љ–µ—А–∞ — –У–µ—Б–Є–Њ–і (Theog., 82, 97). –Э–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –У–µ—Б–Є–Њ–і –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Ж–∞—А—П—Е, –љ–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В —Б–∞–Љ—Г –Є–і–µ—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ. –Ю–љ —В—А–µ–±—Г–µ—В —Б–њ—А–∞–≤–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В —Ж–∞—А—П, –љ–Њ –Є –Њ—В –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (Erga, 226). –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Ж–∞—А—П –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є–є –њ–ї–∞–љ –Є —Г–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Є–і–µ—П –Њ–±—Й–µ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –∞ –Њ—В—Б—О–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ —И–∞–≥ –і–Њ «–Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–ї–∞—Б—В–Є—П».
–Т –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О, –∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—А–Њ—Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј –љ–µ–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Р—Д–Є–љ–∞—Е –њ–µ—А–≤–Њ–є –±—Л–ї–∞ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М «—Ж–∞—А—П», —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –µ–µ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М «–Њ–±—Л—З–∞—П–Љ –Њ—В—Ж–Њ–≤» (Ath. Pol., 3, 2, 3). –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –≤—Б–µ —Б—В–∞—А—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Є–ї–µ, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–і–µ—А–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤.
–°–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤, –∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –і–∞–µ—В—Б—П —Б–≤—Л—И–µ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П; –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ—П—В–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Э–Њ–≤–∞—П –ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В—М, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В —Б–∞–Љ–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–µ –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П; –Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Б—А–Њ–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–Њ–ї—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ—В. –Я–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ–ї–Є—Б–љ–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –і–≤–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞: 1) –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ—Л; –Є 2) –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —А–∞–≤–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Е–∞—А–Є–Ј–Љ, –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–њ–µ—А—М –Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–і—А—Г–≥ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б–њ—Г—Й–µ–љ–∞ —Б –љ–µ–±–µ—Б –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–Є —Б–∞–Љ–Є—Е –ї—О–і–µ–є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –≤–µ—З–љ–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –У–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –µ—Й–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї–∞ —Г–Љ–∞–Љ–Є, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ш —Н—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–∞–ї–∞—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞ –і–≤—Г—Е –њ–Њ—В–µ—Б—В–∞—А–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є — —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є (–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є). –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Є—А–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ґ–Є—А–∞–љ—Л —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Є –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ, —В. –Ї. –Є—Е –≤–ї–∞—Б—В—М –Є–Љ–µ–ї–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Е –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї–µ–є –і–µ–ї–∞ –≥–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–∞—Б–Є–ї–µ–µ–≤, —Б —З–µ–Љ –Њ–љ–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М. –Т–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Б–∞–Љ—Г —Б—Г—В—М –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є —В–Є—А–∞–љ–Њ–≤ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ –Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –ї–Є—З–љ—Л–є –Є–Љ–Є–і–ґ. –Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –Ъ–Є–ї–Њ–љ–∞ –Є –Я–Є—Б–Є—Б—В—А–∞—В–∞ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Є —Б–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–ї–Є–≥–Є—О.
–Я–Є—Б–Є—Б—В—А–∞—В—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П —Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Р—Д–Є–љ—Л –Є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –≤–њ–Є—Б–∞—В—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–Є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Х–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Г–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—О —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г, –µ–µ –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–Є–є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Я–Є—Б–Є—Б—В—А–∞—В–∞ —Н—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н—А—Л –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є, —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–∞—П –ґ–µ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–ї–∞–і—И–∞—П —В–Є—А–∞–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Њ–њ–Є—А–∞–ї–∞—Б—М —Г–ґ–µ –љ–µ –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–∞—Ж–Є—О –Є –љ–µ –љ–∞ –≤–Њ–ї—О –љ–∞—А–Њ–і–∞, –∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –љ–∞–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —А–µ–љ–µ—Б—Б–∞–љ—Б —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–Є–ї —Б–Њ–±–Њ—О —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ —В–Є–њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –њ–Є—В–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ–Ї–∞–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, —З–µ–Љ –У—А–µ—Ж–Є–Є. –Э–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Н–ї–ї–Є–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є —П–≤–Є–ї–Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –љ–Њ–≤—Л–є —В–Є–њ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б –љ–Њ–≤–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Ж–∞—А–µ–є — –±–Њ–≥–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Н–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞, –∞ –Њ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—В–µ—Б—В–∞—А–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є..
–†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е, –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –≤ –∞—А—Е–∞–Є–Ї—Г. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є (–±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М), –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–∞–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–∞–µ—В —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –°–Њ–ї–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є (Sol., 3, 3, 5 — 6 ; 31 — 32 D). –Ю–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Ј–∞ —Б—Г–і—М–±—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–ї–Њ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г, –љ–Њ –Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞—Е. –≠—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –Ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—Л–≤—Г —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, —Е–Њ—В—П –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М (Arist. Ath. Pol., 5, 3 — 4).
–Э–Њ–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ –Ъ–ї–Є—Б—Д–µ–љ–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –≤–∞–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А—В–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В, –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н—А—Л. –°–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –Ъ–ї–Є—Б—Д–µ–љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ —Б–≤–µ–ї –љ–∞ –љ–µ—В –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—Г–≥—Г–±–Њ –њ—А–∞–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°—В–Њ–ї—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Г –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞—Б—М —Б –љ–µ–±–µ—Б –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –ї—О–і–µ–є. –Э–Њ–≤–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–µ—Д–ї–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –У–µ—А–Њ–і–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –љ–Њ–≤—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–∞–Ї –≤–ї–∞—Б—В—М «–њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ», —В.–µ. —Б—А–µ–і–Є —Б–∞–Љ–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ (Hdt., III, 142, 3). –≠—В–Њ –љ–µ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–≤—Л—И–µ, –і–∞–љ–љ–∞—П –Ї–µ–Љ — —В–Њ –Є–Ј –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ–∞—П –Ї–µ–Љ — —В–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г, –∞ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–∞–Љ–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, —В–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –°–ї—Г—З–Є–≤—И—Г—О—Б—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Г –µ—Й–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –У–µ—А–Њ–і–Њ—В–∞ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Њ –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤–Њ –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є: –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є—О thesmos, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Њ–±—Л—З–∞–є, –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б–њ–Є—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є—И–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ nomos — «–Ј–∞–Ї–Њ–љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї». –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –њ—А–Њ—Д–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –≠—В–Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П — «—А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–µ» (isonomia). –Х—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ «–Є—Б–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П» –±—Л–ї —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–ї–Є—Б—Д–µ–љ–∞ –Є —З—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–≥–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞–Љ –Є–і–µ—П —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤–µ—Б—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤.
–Т –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —П–≤–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М. –Т –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Р—Д–Є–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–∞—Д–Њ—Б —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—П –њ—А–Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є —А–∞–±—Б—В–≤—Г –Є –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г –њ—А–Є —В–Є—А–∞–љ–Є–Є (Hdt., III, 80—Б–ї–ї.; V, 78; Thuc., II, 36 — 45; Plat. Menex., 236b — 241e; Eurip. Heraclid., 182—Б–ї., 403 — 457). –•–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –њ—Г–≥–∞–ї–Њ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –Ј–ї–∞, —З–µ–Љ —В–Є—А–∞–љ–Є—П. (Aristoph. Vespae, 488-490, 493—Б–ї–ї., 502). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є –Є –∞–љ—В–Є—В–Є—А–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г, —В–µ–љ—М —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –≥–і–µ — —В–Њ —А—П–і–Њ–Љ. –Т –Р—Д–Є–љ–∞—Е –њ–Њ—Б—В–Њ–љ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є–і–µ—А—Л, —З–µ—В–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–µ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Е –Ї –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г —Б –њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –љ–µ –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—А–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–Љ –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≥—А–∞–љ—М, –Њ—В–і–µ–ї—П–≤—И—Г—О –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Њ—В —В–Є—А–∞–љ–∞.
–Т —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –њ–Њ–ї–Є—Б–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–∞–ї–Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –і–ї—П –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї –љ–µ–і—Г–≥ –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Є. –Ъ—А–Є–Ј–Є—Б –Є –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є—П –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –°—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Є—Б–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є–Ј–ґ–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П –Є —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ј—А–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є — —В–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–ї–∞, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –≤–Є–і–µ, –∞ –≤ –≤–Є–і–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞.